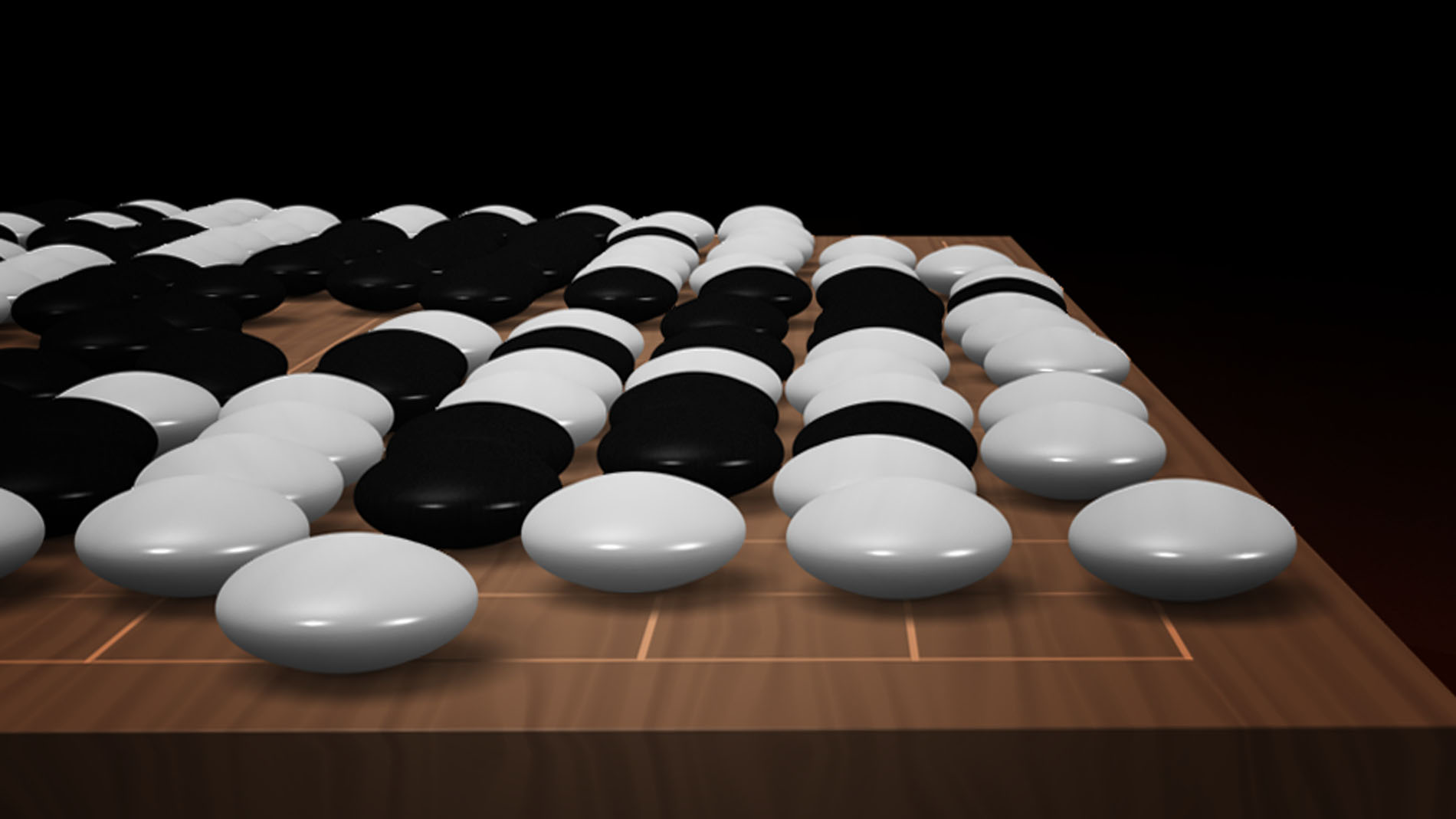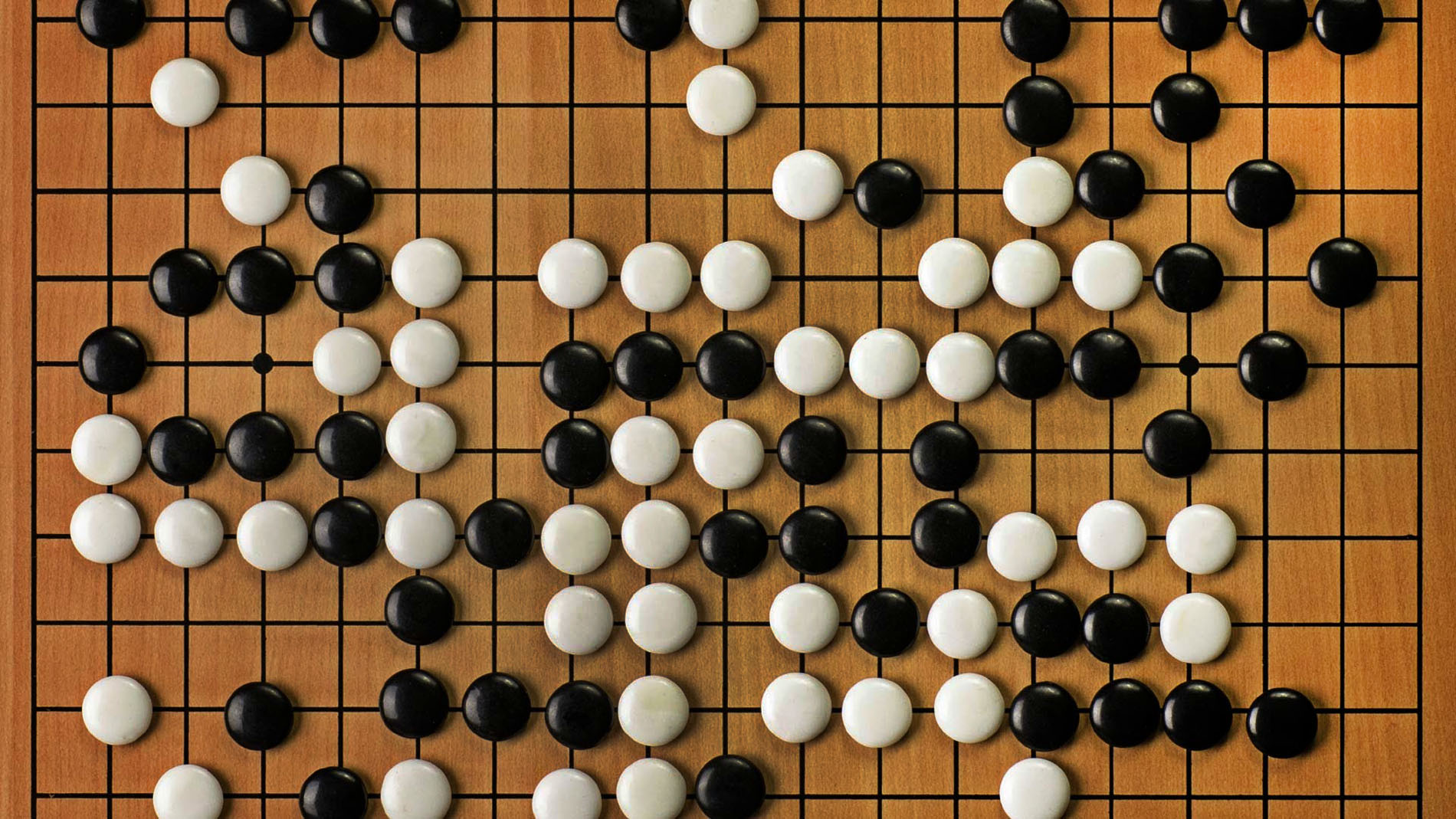Ведущий научный сотрудник сектора теоретической семантики Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Ирина Левонтина дала интервью журналисту «Московского комсомольца» Елене Светловой и рассказала, почему ей не позволили выступить в суде по делу студента Высшей школы экономики Егора Жукова накануне вынесения приговора, а также поделилась мнением по поводу положения эксперта-лингвиста в России. Признанный специалист по судебной лингвистической экспертизе уверена: за мысли судить нельзя.
– Ирина, я давно живу на свете, но мне кажется, что в последнее время лингвистическая экспертиза приобрела какой-то невиданный размах. Уже и реклама в Интернете появилась со слоганом «Работаем по всей России!»
– Лингвистические исследования бывают не только по политическим делам, которые у всех на слуху. Но новое сегодня то, что связано со статьей 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), а также с оправданием терроризма, оскорблением чувств верующих, искажением роли СССР во Второй мировой войне. Раньше мы тоже проводили исследования по делам, когда, к примеру, человека избили или убили по мотивам национальной ненависти, то есть речь шла о конкретном преступлении и его мотивах, а сейчас другая ситуация. Ведь 282-я статья, по сути, предусматривает ответственность за мыслепреступление. Человека судят не за то, что он сделал по каким-то мотивам, а именно за ненависть, за взгляды, за слова. С этим и связано огромное количество лингвистических экспертиз и заключений.
– Они и становятся доказательством преступления?
– Именно, у прокурора никаких других доказательств нет. Приходит лингвист в штатском и рассказывает, что на самом деле за этими словами скрывается разжигание вражды. Или взять дело Светланы Прокопьевой, журналистки из Пскова, в чьей статье нашли оправдание терроризма. Это вся доказательная база. Никого искать не надо – достаточно заказать у такого эксперта исследование, чтобы с ним пойти в суд. Иногда кажется, что других преступлений нет, сплошь и рядом судят людей, которые что-то не так сказали. По «Новому величию» рассмотрение длится уже несколько месяцев.
– Вы были экспертом по этому делу?
– Я готовила заключение специалиста, которое заказала адвокат Ани Павликовой. Мы как раз на днях были в суде, когда от Кости Котова, мужа Ани, пришло сообщение, что его этапировали во Владимир. Я тоже ему писала заключение, но там вообще судья отказался слушать. Это, я считаю, нарушение права на защиту, в моей практике такое в первый раз. В текстах, которые у Котова изъяли при обыске, всё мирно, никаких призывов к насильственным действиям нет и в помине. Все тексты в духе: «Милосердие – вот то, к чему мы призываем».
– А какие тексты Ани Павликовой вы анализировали?
– Её телефонную переписку с человеком по имени Руслан Д., как потом оказалось, он был провокатором. Аня тихая, добрая девочка, немножко не от мира сего. На суде её матери задали вопрос: на какой почве общались члены «Нового величия»? Мама рассказала, что у них были общие интересы: Аня очень любит животных, она работает санитаром в ветлечебнице, другая девочка, Маша Дубовик, училась на ветеринара, а Костыленков разводит кроликов. Какая террористическая организация?
Телефон был оформлен на имя мамы, поскольку девочка была на тот момент несовершеннолетней. Переписка небольшая и, казалось бы, пустяковая, но маму она насторожила, поэтому они пытались с адвокатом приобщить её к делу и обратились к специалисту, чтобы её проанализировать. Если моё заключение хотя бы на миллиметр поможет Ане, будет хорошо.
– И что вы увидели в этой переписке?
– Там действительно эта несчастная Павликова пытается уйти, как-то отстраниться от «Нового величия», а провокатор оказался очень ловким манипулятором. Я проанализировала приёмы речевой манипуляции, при помощи которых он её опутывает. Когда рассказывала об этом в суде, прокурор страшно злился, но судья, по-моему, слушал с интересом.
– А можете привести примеры?
– Ну, например, она ушла, а он уговаривает её вернуться, используя разные приёмы давления. Аня не хочет ходить на собрания и готова делать что-то другое. Она говорит, что может листовки клеить. Руслан отвечает: листовки хорошие, ты молодец, в общем, ждём тебя завтра. Он настаивает: ты приходи бесплатно, зачем тебе лишние деньги тратить? (Они скидывались по 200 рублей на аренду помещения.) По переписке видно, что Аня не может вести конфликтный диалог, чувствует себя не очень уверенно, ей трудно сказать «нет». Там есть неявные вещи, которые неспециалисту не видны.
Я сделала такую интересную штуку: разобрала её и его реплики, и выявились разные роли и совершенно разные установки. Аня: я за всё хорошее, да, как скажешь, извини, пожалуйста. Она не умеет сопротивляться, избегает конфликтов, а у него сплошные императивы, то есть он оказывает на девушку давление: мы все тебя просим! Применяет моральный шантаж: если ты не хочешь ходить из-за того, что ты обиделась на такого-то, я его накажу, его не будет. Когда человеку приводят такие доводы, у него возникает чувство вины, что кто-то пострадает из-за него. В общем, материал небольшой, но в нём видна вся структура взаимоотношений. Руслан Д. проявляется как ловкий манипулятор, он умеет втягивать, не говоря о том, что он гораздо старше Ани по возрасту.
– Судебная лингвистическая экспертиза, как и любая другая, априори должна быть независимой, но, к сожалению, зачастую она обслуживает интересы обвинения. Зависит ли результат от того, кто ставит задачу перед экспертом – адвокат или следователь?
– Адвокат не может заказать экспертизу (по этому поводу было решение ЕСПЧ о том, что происходит нарушение равенства сторон в процессе). Экспертизу назначает суд, но адвокат может заказать заключение специалиста. С независимой экспертизой у нас большие проблемы. Экспертов унижают, иногда запугивают, на них давят. Крайний случай был с химиком Ольгой Зелениной, которую обвиняли в пособничестве в контрабанде наркотиков в рамках «макового дела». Она как специалист давала разъяснение по поводу методики определения количества веществ в пищевом маке. Зеленина была арестована, сидела, кстати, одно время в одной камере с Толоконниковой, потом вышла под подписку о невыезде. Несколько лет всё это продолжалось, пока не развалилось дело, уже и ФСКН прекратила своё существование, а дело всё длилось. Ей присудили компенсацию 700 тысяч рублей, что, конечно, не стоит потерянных шести лет жизни.
– Случай Зелениной, когда специалиста наказали за его экспертное мнение, наверное, стал предостережением для профессионального сообщества?
– Мало кто готов участвовать в громких делах, потому что тебе звонят на работу, пугают начальство: «Это позиция института?» Или: «А вы знаете, где сейчас ваш сотрудник: он в отпуске или в командировке?» Мне лично не угрожали, но в институт звонили. Сейчас пробивают законопроект о лицензировании экспертов. Сегодня по закону об экспертной деятельности любое лицо, имеющее соответствующую квалификацию, может провести исследование. А лицензирование, переаттестации… Кто будет их проводить?
И человек окажется зависимым, потому что ему скажут: «Если ты не будешь проводить правильную экспертизу, то не пройдёшь переаттестацию!» Это будет гвоздь в крышку гроба независимой экспертизы, ведь зачастую это единственный шанс защитить людей.
– Недавно был скандал в связи с делом студента ВШЭ Егора Жукова, которому сначала вменили участие в массовых беспорядках, но затем обвинение переквалифицировали на призывы к экстремизму. А поводом стали записи из его видеоблога, в которых, на взгляд следствия, содержится «политическая ненависть и вражда к власти».
– Это дело основано исключительно на лингвистической экспертизе. Суд по делу Егора Жукова отказался слушать трёх специалистов-лингвистов, и вот на этой неделе отклонил и четвёртого – меня. Егора Жукова обвиняют в экстремизме на основании нескольких роликов, хотя студент – пропагандист мирного ненасильственного протеста. В своих роликах он как раз объясняет, что такой протест гораздо эффективнее насильственного, что надо творчески подходить к поиску разнообразных форм протеста. Спасибо «Новой газете», которая опубликовала официальную экспертизу и наш отзыв на неё, под которым подписались академики, члены-корреспонденты РАН и я, как специалист, имеющий большой опыт в судебной лингвистике. Мы разобрали это заключение (кстати, это ещё не худший образец жанра).
– Официальным экспертам всё-таки удалось найти злополучные призывы?
– Там есть такое высказывание: «Надо хвататься за любые формы протеста», из чего эксперт делает вывод, что, если любые, то в том числе и насильственные. И ещё фраза: «Делай всё, на что ты способен». Здесь увидели скрытый смысл – призывы к свержению. Мы пишем, что такие слова, как «любой» и «всё», в естественном языке работают немного другим образом. Когда молодой человек говорит девушке: «Я сделаю для тебя всё», это не значит, что он обещает ей взорвать соседний дом, чтобы у неё был лучше вид из окна, или реально убить «соседей, что мешают спать». Или когда человек говорит: «Я буду рад любому подарку!» – никто же не думает, что он будет рад, если ему принесут дохлую крысу! Понятно, что эти слова нужно понимать в контексте. А контекст однозначный: Егор Жуков в каждом своём ролике многократно повторяет слова «ненасильственный протест». Параллельно с нами лингвисты из Высшей школы экономики делали заключение для следствия – наша аргументация оказалась поразительно похожей. И «Новая» это тоже опубликовала. И очень важно, что люди увидели, как строятся подобные обвинения.
– Увы, в последние годы расплодилось немало экспертов без профильного лингвистического образования, обслуживающих следствие и суд. Их называют «экспертами по вызову»…
–Безусловно, среди специальных экспертов, которые привлекаются органами следствия, много людей, не имеющих профильного образования. Суды это принимают. Ну вот, например, знаменитая Наталия Крюкова, которая пишет в огромных количествах лингвистические экспертизы про экстремизм. Она по образованию преподаватель математики, но считает, что «по сути математика и лингвистика – это одно и то же». Это примерно, как если человек с дипломом филолога возьмется за экспертизу ДНК.
Лингвистика в таком уязвимом положении, потому что многие люди считают, что если они носители русского языка, то имеют право проводить лингвистические исследования. Экспертиза обычно делается в рамках ведомственной науки, которая к академической науке никакого отношения не имеет.
Но часто те же люди, которые занимаются обычной лингвистикой, пишут статьи и выступают на конференциях, за деньги пишут чудовищные заказные экспертизы, считая, что никто не прочтёт, не увидит и не узнает. Теперь, после публикации экспертизы по делу Егора Жукова, они должны понимать, что и прочтут, и узнают. Как после такого прийти на серьёзную научную конференцию? Может быть, это кого-то остановит…
– Бывают и совсем анекдотические случаи!
– Обхохочешься! Особенно часто это встречается в экспертизах, написанных штатными «лингвистами» без профильного образования. Мой любимый пример – экспертиза, которая была сделана для обоснования того, что произведение нужно включить в список экстремистской литературы. Там вообще – то Коран внесут, то Ветхий Завет. Тут была книжка о современной каббале, в которой речь идёт о самоусовершенствовании. Книжка сложная, эксперт читал, ничего не понимал, пока не увидел знакомое слово «холокост»! По мнению «специалиста», это может возбудить ненависть у евреев против других народов, которые в этом участвовали. Поэтому книжку надо запретить.
– Вспомнила перформанс рэпера Оксимирона «Сядь за текст» – публичные чтения классиков русской литературы, в чьих произведениях «судья» находил призывы к насилию. Сам Оксимирон получил «наказание» за декламацию отрывка из «Горя от ума», в котором усмотрели клевету…
– Крамолу можно отыскать в стихотворении Лермонтова «Прощай, немытая Россия», а уж ода «Вольность» Пушкина с его обращением к «самовластительному злодею»: «Тебя, твой трон я ненавижу, / Твою погибель, смерть детей / С жестокой радостию вижу…» Куда там блогеру Синице до него?
– Сегодня суды завалены исками к СМИ о защите чести и достоинства. Наши люди очень обидчивые, особенно чиновники…
– Один чиновник требовал лингвистическую экспертизу в связи с тем, что в газете написали, что он «прошмыгнул». Есть постановление пленума Верховного суда, где разъяснено, что являются порочащими не любые неприятные сведения, а ложные утверждения о совершении аморального или противоправного поступка. Хотя нередко судам это не мешает принимать решение в пользу такого обиженного. На днях прочитала, что ЕСПЧ присудил Лимонову компенсацию по проигранному им некогда иску за фразу «Московские суды подконтрольны Лужкову». А в своё время слово «подконтрольны» признали порочащим сведением и присудили Лимонову выплатить полмиллиона рублей компенсации. Я выступала в суде как специалист по этому делу.
– Истцы нередко требуют в качестве компенсации астрономические суммы.
– Сейчас часто назначаются такие штрафы и компенсации, которые человека уничтожают. Неприятно, когда критику пытаются представить как распространение порочащих сведений и с помощью статьи о защите чести и достоинства заткнуть рот тем, кто тебя критикует. Градозащитникам не нравится, что вырубаются леса, рощи, разрушаются дома, а человек, который это устроил, подаёт в суд и требует огромных компенсаций. Размер выплат должен быть радикально снижен. Недавно было совсем возмутительное дело, когда журналистке Ксении Лученко присудили выплатить 400 тысяч рублей ровно за одно слово «связаны», относящееся к семье проректора МГИМО в статье о сносе исторического дома Черниковых в Хамовниках и выселении из парка Трубецких детского дома творчества. Было разъяснение, кажется, Верховного суда, что назначение компенсаций не преследует цели разорить человека, но сейчас именно разоряют и душат.
– Ирина, ваше кредо: нельзя судить за мысли.
– Я высказываюсь в данном случае не как лингвист, а как человек: 282-я статья УК РФ должна быть отменена. Или полностью декриминализована.
– Нельзя судить за мысли и высказывания, но в западноевропейских законодательствах тоже есть ограничения свободы слова. Попробуйте высказать сомнения в существовании холокоста в Германии!
– Ну, есть люди, которые сомневаются в реальности холокоста, что и травмирует других людей. Это, конечно, совершенно понятно и в моральном отношении кажется бесспорным, но закон открыл ящик Пандоры.
Почему бы тогда не сделать статью об искажении роли СССР во Второй мировой войне? Об уголовном преследовании за другие неправильные мысли? Кстати, есть европейская традиция, а есть ведь и американская, где существует Первая поправка к Конституции, декларирующая, что свобода слова — ценность очень высокого уровня.
– Ирина, дайте, пожалуйста, совет пользователям соцсетей, как выбирать выражения, чтобы не попасть под раздачу.
– Например, одна дружественная мне газета, когда публикует острые материалы, предварительно пересылает их мне, а я вставляю всякие «мы считаем», «вероятно» и т.д., чтобы по возможности обезопасить их от судебных исков. Ну, надо понимать, что, скажем, матерные слова в отношении какого-то конкретного лица могут быть опасны. Угроза – сложное понятие. Если мы обратимся к делу Синицы, его пост был отвратителен, но угрозы не содержал. Потому что угроза предполагает, что человек имеет возможность совершить преступление, поэтому есть основания отнестись к этому серьёзно. Что, кстати, не помешало осудить Синицу именно за угрозы.
В любом случае, с угрозами и фразами, которые могут быть восприняты как угрозы, нужно поаккуратнее – это уголовная статья. Если человек нарочно хочет рискнуть, удаль проявить, пройти по лезвию бритвы – это одно, но если он просто не может молчать, потому что в нём все кипит, то пусть он перед тем, как нажать кнопку «опубликовать», призовёт на помощь здравый смысл и попытается взглянуть отстраненным взглядом на свою публикацию. К сожалению, сегодня мы наблюдаем мощную тенденцию преследования за слова.